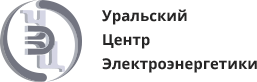Развитые страны столкнулись с нефтяными шоками в 70-х годах 20-го века, которое спровоцировало эмбарго ОПЕК и геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке. Эти кризисы, хотя и частично искусственные, обнажили уязвимость экономик, которые за предыдущие два десятилетия полностью перешли с угля на нефть.
Удобство, высокая энергоёмкость и иллюзия бесконечности нефтяных запасов сделали её основой промышленного роста. Великобритания, например, демонтировала угольную железнодорожную сеть к 1963 году, перейдя на автомобильные перевозки, следуя примеру США.
Однако к 1970 году пик добычи нефти в США, предсказанный геологом Кингом Хаббертом ещё в 1956-м, стал реальностью. Это положило конец эпохе дешёвой энергии и передало контроль над ценами от Техасской железнодорожной комиссии к ОПЕК, чьи действия впоследствии не раз сотрясали глобальную экономику.
К 2005 году мировая добыча традиционной нефти достигла плато, а цены взлетели до рекордных 147 долларов за баррель нефти в 2008 г. МВФ прогнозировал, что к 2020 году стоимость превысит 200 долларов, но вместо этого в 2014 началось обрушение рынка. Причиной стал сланцевый бум в США: благодаря гидроразрыву и горизонтальному бурению добыча выросла с 5 до 13 млн баррелей в сутки за десятилетие. Однако этот успех оказался палкой о двух концах. Сланцевые скважины истощаются на 90% всего за три года, требуя постоянных инвестиций, а их энергетическая рентабельность (EROI) к 2023 году упала до критических 5:1. Для сравнения: EROI солнечных панелей в солнечных регионах составляет 8–12:1, ветрогенераторов — 15–20:1, что близко к показателям традиционной нефти (10–20:1) и угля (30:1). Но даже эти цифры не отменяют ключевой проблемы: производство самих ВИЭ пока зависит от ископаемого топлива.
Энергетический переход, ускоренный после 2020 года, столкнулся с парадоксами. Европейский Союз, сокративший зависимость от российского газа с 40% до 7–10%, нарастил долю ВИЭ в электроэнергетике до 40%, однако промышленность — от металлургии до химии — осталась заложником газа.
«Зелёный» водород, несмотря на амбициозные планы ЕС, всё ещё стоит очень дорого, а малые модульные атомные реакторы и термояд остаются проектами на 2035 - 2045 год. Одновременно глобальный долг, достигший 315 трлн. долларов, превратился в тикающую бомбу: каждый доллар роста ВВП в последние десятилетия сопровождался тремя долларами новых заимствований. Низкие процентные ставки спасли западные экономики от коллапса, но лишили пенсионные фонды и страховые компании доходности, вынуждая их вкладываться в рискованные активы, включая сланцевые проекты.
В рамках ускоренного энергетического перехода прерывистость ветровой и солнечной генерации — ещё один камень преткновения.
Дания, где ветер обеспечивает 50% электроэнергии, балансирует сеть через соединение с норвежскими ГЭС. Калифорния, зависящая от солнца, использует гигантские батареи Tesla. Но такие решения требуют колоссальных инвестиций и перестройки инфраструктуры.
Критики справедливо указывают, что «зелёные» активисты часто манипулируют статистикой, объединяя стабильную гидроэнергетику и прерывистые ВИЭ.
Доля последних в первичном энергопотреблении мира остаётся ниже 15%, а в электроэнергетике — около 30%, при этом ЕС и США переносят «грязные» производства в Азию, сохраняя зависимость от угля в цепочках поставок. Это не столько переход, сколько лицемерие.
2025 год застал мир на энергетическом перепутье. Цены на нефть стабилизировались на уровне $75–85 за баррель, но геополитические риски — от Ближнего Востока до Тайваня — сохраняются. Пандемия и операция проводимая Россией на Украине ускорили распад глобализованной энергосистемы: страны вновь делают ставку на суверенитет, будь то сланцы в США, атом во Франции или солнечные парки в Индии.
Будущее зависит от того, сможет ли человечество найти баланс между тремя императивами: энергобезопасностью, устойчивостью и справедливостью. Оптимисты верят, что к 2050 году ВИЭ и атом обеспечат 70% энергии, а водород заменит газ в промышленности. Реалисты напоминают, что нефть и газ останутся основой транспорта и химии как минимум до 2050-х. Пессимисты предрекают коллапс из-за долгового кризиса и климатической миграции.
Однако, история, редко следует прогнозам. В 1970-х никто не предвидел сланцевой революции, а в 2000-х — взлёта солнечной энергетики. Энергетика — не просто вопрос технологий или ресурсов, это зеркало цивилизации, отражающее её амбиции, страхи и способность к компромиссам. Как писал геолог М. Кинг Хабберт: «Наш выбор — не между энергией и экологией, а между организованным переходом и хаосом». Судя по текущим трендам, избежать хаоса можно лишь через кооперацию, но человечество, по-моему, к ней пока не готово.